Упорство Луи-Рене Дефоре
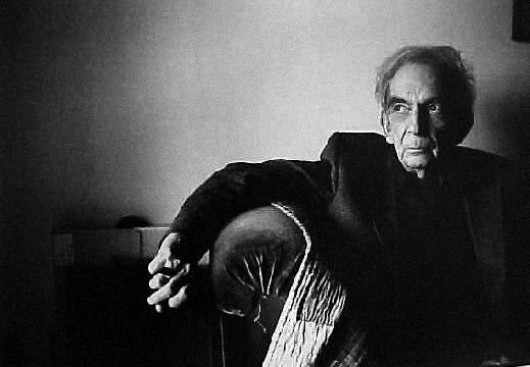
Фрагменты «Ostinato» начали появляться в периодической печати в 1980-е годы, а отдельной книгой автобиографическое сочинение Дефоре было опубликовано в 1997 году. Этот том сопровождался следующим «предуведомлением от издателя»:
Собранные здесь отрывки большей частью уже печатались в различных журналах. Автор добавил к ним некоторые из тех, что прежде не издавались, но не стремился придать равновесие целому. Единственная цель настоящей публикации — дать представление о разрозненных элементах неоконченного произведения, которое полностью исключает возможность строгой организации и по природе своей не может быть завершено.
Трудно сомневаться, что предуведомление было написано самим Дефоре и потому заслуживает безусловного внимания; однако читатели, знакомые с творчеством писателя и его художественными принципами, опирающимися на проблематизацию любого высказывания, когда «подлинность всего, что говорится, постоянно ставится под вопрос самим рассказчиком»[1], должны, по-видимому, принять и эту декларацию с некоторыми оговорками. Несмотря на внешнее отсутствие «строгой организации», в «Ostinato» — хотя это произведение действительно нельзя отнести к традиционному жанру автобиографии, где текст, как правило, упорядочен хронологией и событийной фабулой, — просматривается довольно стройная композиция, и ее свободный характер не противоречит впечатлению целенаправленного художественного жеста, которое остается после чтения.
Книга Дефоре представляет собой собрание более или менее коротких — от одной-двух фраз до одной-двух страничек — фрагментов, в которых автор либо воссоздает наиболее яркие моменты своего прошлого, либо осмысляет процесс этого воссоздания, неполноту, избирательность, неточность человеческой памяти и ее попыток фиксировать результаты своей работы в словах; иногда оба эти начала синтезируются в одном фрагменте. Текст разделен на две неравные части, между которыми лежит биографический рубеж — гибель четырнадцатилетней дочери автора; известно, что это несчастье переломило жизнь Дефоре и заставило его на долгие годы прекратить литературную деятельность или, во всяком случае, ничего не печатать[2]. В первой части, составляющей примерно две трети общего объема, преобладают фрагменты, имеющие прямое или косвенное отношение к воспоминаниям; разделы, из которых состоит эта часть, — за исключением начальных страниц, образующих своего рода увертюру, — прямо соотносятся с основными периодами и важнейшими событиями жизни писателя: здесь так или иначе отражены его раннее детство, несколько лет учебы в закрытом католическом коллеже, смерть матери, юность, служба в артиллерии, война 1940 года и беспорядочное бегство французской армии после «странного поражения», смерть отца, участие в Сопротивлении, когда начинающий писатель помогал американским парашютистам десантироваться на территорию Франции и скрываться в лесном лагере, смерть любимого друга, депортированного и убитого нацистами, семейное счастье и внезапная беда... Во второй части повествовательные фрагменты практически отсутствуют, уступая место авторской рефлексии. Таким образом, при внимательном взгляде можно различить достаточно четкие композиционные очертания «Ostinato», в котором с нисходящей ремеморативной линией соединяется восходящая рефлексивная. Подобное строение текста, постепенно, «на ходу», меняющего и уточняющего собственную природу, отвечает истинному предмету книги, лишь косвенно связанному с вехами жизненного пути Дефоре: она выглядит не столько рассказом о прожитой жизни, близящейся к концу, сколько детальным рассуждением о возможности достижения некоей цели, на первый взгляд — чисто литературной, а при более внимательном рассмотрении — экзистенциальной; цель эта, впрочем, нигде не названа и не определена точно; больше того, автор не раз подчеркивает, что она непознаваема и недостижима, что ее вообще не существует, — можно подумать даже, что он намеренно смущает себя и читателей уже поставленным нами вопросом: не является ли его сочинение произвольным, лишь поверхностно структурированным собранием мемуарных заметок, размышлений о писательском труде и сентенций общего характера? Как свидетельствует Доминик Рабате, один из наиболее проницательных исследователей творчества Дефоре, тот признался ему в частной беседе, что, работая над «Ostinato», всегда держал в уме опасность, которая исходит от жанра афоризма, тяготеющего к выражению обобщенных, авторитарных истин, и следил за тем, чтобы не свернуть на слишком легкий путь аккумуляции подобных максим, хотя к этому естественно располагал избранный им фрагментарный тип повествования[3].
По мнению Рабате, «Ostinato» представляет собой книгу, во многом посвященную обсуждению вопроса о своем возможном завершении, «делающую завершение своей главной проблемой, своим двигателем». Писатель создает здесь не совсем обычную форму, отрицающую формальную завершенность, или, точнее, форму, которая, в соответствии с определением музыкального термина ostinato («упорно, настойчиво»), многократно воспроизводит одну и ту же смысловую фигуру[4], но неизменно возвращается к доминирующему ощущению разомкнутости текста, причем это ощущение лишь усиливается по мере продвижения к его видимому концу. Такая форма сопротивляется любому подведению итога, любой редукции содержания к однозначным выводам. Постепенное, но очевидное уже в первой части ослабление фабульной компоненты, связанной с биографической, событийной канвой, которую Дефоре, с характерным для него антинарциссизмом, не считал по-настоящему интересной для читателя (недаром он уже на первых страницах говорит о «бремени воспоминаний», подчиняющих «истину прожитой жизни истине фактов»), последовательное перемещение акцента на ключевые антиномии, обу-словленные взаимодействием пишущего со временем, памятью и языком, — все это делает «Ostinato» своего рода интертекстом по отношению к более ранним произведениям Дефоре, где такие антиномии были обозначены и подвергнуты пристальному изучению, — в частности, по отношению к повести «Болтун», рассказам из сборника «Детская комната» и поэме «Морские мегеры», опубликованным в русском переводе несколько лет назад Издательством Ивана Лимбаха. Те, кто читал этот том избранных произведений Дефоре, обнаружат не только содержательную близость «Ostinato» к его прозе и стихам, но и лежащие на поверхности текстуальные параллели. Назовем лишь самые заметные: встреча с матерью на станционном перроне; тягостная немота, от которой освобождает близкий друг; обет молчания, данный в детстве; раскрепощающее пение как путь к обретению внутренней независимости и ее неопровержимый знак... Верно и обратное: «Ostinato», как и «Стихотворения Самюэля Вуда», может прочитываться сквозь призму других сочинений Дефоре, нередко включающих автобиографические элементы, — в высшей степени показательно, что издательская аннотация к «Детской комнате», также написанная самим писателем, предлагает видеть в рассказах, составивших этот сборник, «последовательные версии внутренней биографии».
Итак, автобиографичность не противопоставляет «Ostinato» другим произведениям Дефоре, она скорее становится естественным продолжением и, как ни странно, завершением всего их корпуса, необходимым ключом к его интерпретации, вопрос о котором прямо поставлен в книге: «...он отклонился от верного направления так далеко, что, повернув назад, заплутал бы еще больше, и не может даже в изнеможении рухнуть наземь, потому что странная энергия отчаяния поддерживает его и несет к неведомой цели, о которой он знает только, что никогда ее не достигнет, хотя бы в распоряжении была целая вечность. Вот откуда этот тревожный поиск ключа, который, давая обзор всего пути, позволил бы, самое меньшее, оценить размеры пересеченного пространства, очертить его контуры и — вероятно, отчасти, так как целиком ее нельзя представить, — уяснить направляющую линию движения». Нарушив обет молчания, данный после смерти дочери, и приступив к написанию «Ostinato», Дефоре вовлек в экспериментальное поле, созданное его предыдущими сочинениями, мате-риал собственной жизни и, что не менее важно, собственного творчества. Его новое сочинение, как и продолжавшаяся жизнь писателя, было обречено пребывать во всегдашнем статусе work in progress, — больше того, эта неразделимость жизни и писательской работы составляла самую суть замысла.
Тем более значимым стало решение Дефоре все же оформить результаты своего труда в виде книги, словно подводящей черту под всеми его сочинениями и демонстрирующей на новом материале противоречия, которые в любом речевом акте порождаются отношениями сказанного, сознательно опущенно-го и принципиально несказуемого. «Недописанная» автобиография напомнила о предмете неизменного интереса писателя: зыблющейся границе между выраженным в словах и невыразимым, — или, если использовать метафору Мориса Бланшо, посвятившего этому произведению несколько эссе, между немой «белизной» и омываемой ею «чернотой» письменного текста, без которого, однако, эти пробелы были бы невозможны. «Что вновь вызвало в нем потребность писать, которую не смогли пересилить страдание, тайная клятва, вовеки незаполнимая пустота? Может быть, то, что он понял: чтобы избавиться от писания, нужно снова писать, писать без конца — до самого конца жизни и помня о ее конце. Белые места существуют лишь там, где есть черные, молчание — лишь тогда, когда ему предшествуют речь и звуки, которые прерываются»[5]. Обсуждаемое в книге «завершение» осталось проблематичным, излюбленные автором антиномии немоты и речи, истины и лжи, единства и множественности — неснятыми, но движение к цели, о котором он так часто говорит и которое, казалось бы, могло кончиться только вместе с его жизнью, получило — несмотря на недостижимость самой цели, — адекватное разрешение. Неоконченная версия стала окончательной: показательно, что следующее сочинение Дефоре, рукопись которого он передал в Mercure de France в декабре 2000 года, за считаные дни до своей смерти, — «Шаг за шагом, вплоть до последнего», — несмотря на типологическое сходство с «Ostinato», не было интегрировано в его состав; точно так же остались вне его рамок и те опубликованные в журналах фрагменты, которые не вошли в издание 1997 года.
О том, что за свободной композицией «Ostinato» стоит вполне последовательная писательская стратегия, свидетельствуют и основные дискурсивные особенности этого произведения. Мало того, что в новой прозе, с первых строк помещаемой в рамки биографического жанра, автор берет на себя роль персонажа (в более ранних сочинениях Дефоре его полупризрачным героем могла, напротив, усваиваться роль автора, «литератора»[6]), — обычное в таких случаях дистанцирование от самого себя здесь усиливается тем, что элементы жизнеописания встраиваются в специфический повествовательный план, соединяющий три особенности: рассказ в настоящем времени, благодаря чему «поднятое на поверхность» прошлое как будто застывает вне всякого времени; третье лицо, противопоставленное привычному первому лицу автобиографии и ослабляющее привязку к конкретному и целостному субъекту; фрагментарность текста, намеренное его насыщение разрывами и умолчаниями, в свою очередь размывающее субъектность речи. Сочетание этих черт, по отдельности встречающихся и в более традиционных мемуарах, заметно повышает интенсивность воссоздаваемых образов и в то же время становится фактором странного торможения повествования, своего рода «рапидом», фиксирующим приближение рассказчика к смерти, которое образует не всегда заметный, но несомненно ощутимый фон «Ostinato», — примерно так, как во сне, описанном в одном из начальных фрагментов, приостанавливается падение в каменном колодце, «где сверху дышит тепло, а снизу — могильный холод». Однако такое грамматико-синтаксическое оконтуривание, поддержанное к тому же «паузами» увеличенных типографских пробелов, имеет и оборотную сторону: принципиально отличное от прустовской ретроспекции-реапроприации, оно резко отделяет и отдаляет субъекта высказывания от самого себя, возвращает его «к неведению о самом себе в слепительном свете настоящего»[7].
Повышенное дискурсивное напряжение находится здесь в прямом соответствии со смысловой коллизией, присутствующей в большинстве произведений Дефоре и заданной противопоставлением двух фигур: это, с одной стороны, ребенок, который воплощает доязыковое и внеязыковое состояние сознания, способное проявляться в освобождающем акте пения или столь же гордом молчании, и, с другой, взрослый, который предал и не может не предавать живущего в нем ребенка, хотя и пытается дотянуться до утраченного рая детства с помощью слов. Если взрослый в его предельной несостоятельности репрезентирован упомянутым выше литератором, громоздящим пустые фразы, то с ребенком ассоциируется голос — сила, превосходящая любые слова, стержень человеческого существа, обеспечивающий его полноту, целостность и независимость. Попытки соединиться с собственным голосом — доминанта «Ostinato», обозначенная уже в эпиграфе: «...как язык, с трудом начинающий говорить, он исторг звук своего голоса». О важности этой цитаты из XXVI песни «Ада», где Улисс, заключенный в язык пламени, описывает обстоятельства своей гибели, свидетельствует, в частности, то, что писатель предпочел не использовать существующие переводы Данте на французский язык и дал свой, намеренно утяжеленный, плеонастичный перевод, как бы имитирующий затрудненность самого акта речи, изведения голоса наружу[8]. Чуть далее, в одном из начальных разделов книги, где описывается противостояние ребенка унижениям, которым его подвергают жестокие порядки закрытого учебного заведения, голос предстает знаком высшей личной автономии и самоутверждения: «С гордостью встав перед раскрытой псалтырью, облеченный до лодыжек в торжественную белизну стихаря, он сливает со сдержанным органным гулом глубинную вибрацию своего голоса, его искусные модуляции на подъеме, рискованные колебания при нисхождении, наконец, финальное разрешение, это обжигающее пламя в горле, — так он наделяет себя достоинством, которое за ним отказываются признавать»[9]. Наконец, в последней части, в обособленном фрагменте, специально вынесенном на отдельную страницу, тема получает свое обобщение и разрешение: «Пусть в нем никогда не смолкнет голос ребенка, пусть струится как дар небес, освежая зачерствелые слова сверканием его смеха, солью его слез, его безудержностью, перед которой ничто не может устоять».
Именно этим противопоставлением ребенка, затерянного, но всегда присутствующего во взрослом, и взрослого, безуспешно пытающегося с ним соединиться, объясняется постоянно возобновляемый в стихах и прозе Дефоре, при всем различии вариаций, поиск внутреннего суверенитета и самотождественности, присущих только детству, — поиск, который продолжается и в «Ostinato», но переживается еще острее на фоне постоянных мыслей о его безнадежности, о том, что его нельзя и прервать волевым усилием, и довести до конца. Отсюда же амбивалентная роль, которую в этом поиске играет язык, двойственная природа слов, так часто обсуждаемая на страницах книги. Недоверие к словам, трезвое сознание их неспособности восстанавливать утраченную бытийную полноту, соединяется с убежденностью писателя в том, что через его противоречивое взаимодействие с языком в создаваемый текст входит случайное, непредсказуемое, неожиданное, только и позволяющее вещам вновь обретать «первозданную свежесть». И когда это происходит, прошлое возвращается, «высвеченное резким светом, отчетливое, как бывает только при взгляде с близкого расстояния, ни к чему не прикрепленное, не имеющее точного происхождения, открытое случайности и как будто обретающее внутри пространства, созданного словами, свою первоначальную силу, — хотя не существует плана, который управлял бы этим возвращением и определял его порядок».
Действительно, было бы неверным утверждать, что в «Ostinato» Дефоре занят лишь обычным для него критическим испытанием языковых и риторических средств, что экзистенциальное начало затушевано созданным здесь калейдоскопом размышлений и выводов, которые всякий раз ставятся под вопрос, сопровождаются жестокой борьбой с терзающими автора «насквозь вымышленными голосами», так что он и сам подчас готов видеть в себе «не более чем вымысел, призрак без характерных черт, спорящий с незримыми собеседниками»[10]. В непрестанных, мучительных колебаниях между отчужденным, как бы внеличным прошлым и личным переживанием этого прошлого ясно ощутим этический императив, возникший как раз из собственного, биографического опыта Дефоре, — необходимость найти, вопреки бессилию языка, точные слова для выражения скорби по дорогим для него умершим, — матери, отцу, другу молодости, который решительно изменил его жизнь, а перед гибелью от рук нацистов успел соединить его с будущей женой, и, наконец, по безвременно ушедшей дочери, чья фигура наделяется в «Ostinato» исключительным значением еще и потому, что воплощает в себе качества, присущие ребенку: гордость, независимость, способность к самозабвенному очистительному смеху... Сознавая безнадежность своего предприятия, Дефоре упорно сооружает над пустотой, которую оставили в его жизни эти утраты, подобие надгробного памятника. Личное, подвергаемое в книге самому жестокому подозрению и самому суровому испытанию, проникает в нее не столько через фактоописание, сколько там, где он исполняет долг перед другими людьми, перед любовью, живущей в нем вопреки давней разлуке.
Можно предположить, что недостижимая, неопределимая и несуществующая цель, о которой часто пишет Дефоре, все же существовала и в самом общем приближении может быть определена. Она, как и в других его произведениях, состояла — воспользуемся здесь высказыванием самого писателя в интервью, данном в 1962 году журналу «Tel Quel», — в том, чтобы с помощью лжи, неотделимой от художественного вымысла, «создать мир истины». Такая истина действительно не может быть предъявлена в качестве однозначных и застывших словесных формул: она возникает из взаимодействия слов с «истиной жизни» самого Дефоре, истиной его писательского дела, оплодотворившего эти слова «соком, без которого они остаются мертвым сухостоем». Сделав себя персонажем «Ostinato», Дефоре превратил свой голос, упрямо возобновляющий попытки обрести свободу и единство, в таран, который обрушивается на непробиваемую стену словесной фикции. Он заранее отверг мифологизирующий тип связного и непротиворечиво-закругленного воспоминания с его мнимой способностью оправдания и утверждения реальности прожитой жизни, заранее согласился с незавершимостью своего предприятия ради того, чтобы продолжить и довести до разрешения многолетний опыт осмысления раскола, присущего самому акту письма, который всегда обессиливает и расщепляет искомый голос, всегда балансирует на грани между поэтическим и критическим началом[11]. С помощью избранной им экспериментальной формы Дефоре сумел достигнуть того, к чему стремится любой настоящий писатель, — соединить свою речь со своей жизнью. Недаром таран «остинато», совместной работы памяти и языка, косвенно сопоставлен здесь с дыханием, основным ритмом человеческого тела: «В любое мгновение может угаснуть, но раз за разом повторяется импульс, сравнимый скорее с телесным, чем с природным ритмом, — не волны, беспрерывно набегающие на берег и отбегающие вспять, а дыхание, вдох и выдох...»
* * *
«Стихотворения Самюэля Вуда», помещенные в настоящей книге после «Ostinato», увидели свет почти на десять лет раньше, в 1988 году, однако хронологический порядок нарушен нами лишь формально: Дефоре начал писать новую прозу еще в середине 1970-х годов, более чем за двадцать лет до издания окончательной версии, а первые журнальные публикации ее отрывков относятся к 1984 году; к тому же содержание «Стихотворений» не оставляет сомнений в том, что они выросли непосредственно из его автобиографического замысла. Это подтверждается и свидетельством Ж.-Б. Пюэша, который в годы молодости не раз встречался с Дефоре и фиксировал беседы с ним в дневнике. Согласно записи от 21–22 сентября 1985 году, Дефоре, работавший в то время над «Ostinato», сказал, что его произведение неожиданно для него стало принимать форму поэмы и что ему сразу же пришла мысль приписать авторство вымышленному лицу[12].
Имя Самюэля Вуда впервые появилось под эпиграфом, добавленным к переизданию уже цитированного нами интервью 1962 года, в котором писатель отвечал на вопросы о своих творческих принципах и предпочтениях. Эта небольшая книжка, опубликованная в том же 1985 году, когда автор начал писать свою поэму, получила название «Прямые и окольные пути вымысла», а эпиграф, словно резюмируя поэтику Дефоре, опирающуюся на умолчание и намек, гласил: На подобные вопросы можно отвечать не иначе как обиняками, демонстрируя, так сказать, лишь изнанку ковра. Сэр Самюэль Вуд. Предваряя этой иронической ремаркой свой в сущности единственный теоретический текст, Дефоре показывал, что включает созданного им двойника в изначально присущую литературе игру жизненной правды и неизбежной лжи, которая, однако, как он утверждал в самом интервью, открывает путь к постижению этой правды. Такой же функцией Самюэль Вуд наделен и в «Стихотворениях»[13].
Сначала поэма была опубликована частично (стихотворения I–V) в журнале «Ire des vents» (1986), а затем и полностью, отдельной книгой, в издательстве Fata Morgana (1988). В обоих случаях над текстом стояло имя самого Луи-Рене Дефоре — тем самым сразу акцентировалось, что чужое имя в названии предназначено не для маскировки авторства, а для того, чтобы обнажить и оттенить раздвоенность пишущего. Недаром в этом гетерониме так прозрачна фамилия: английское wood, «лес», прямо отсылает к фамилии самого писателя, des Forкts. Что касается имени «Самюэль», то комментаторы усматривают в нем разные коннотации. Прежде всего это имя библейского пророка, которое в данном контексте может намекать на высокий статус и потенциал поэтического слова; более того, это имя теофорное, со значением «услышанный Богом». С другой стороны, схожее имя носит дьявол Самиель из «Вольного стрелка» Вебера, оперы, служащей фоном действия в рассказе «Звездные часы одного певца», одном из важнейших произведений Дефоре, и эту аллюзию также нельзя не учитывать, поскольку Самюэль Вуд предстает в поэме не только «добрым гением», но и «демоном», — неоднозначность, отвечающая представлению писателя о спасительной и вместе с тем гибельной роли языка. В числе «Самюэлей», которые могли повлиять на выбор Дефоре, критики упоминают и особенно любимых им писателей, носивших то же имя, — Кольриджа и Беккета.
«Стихотворения Самюэля Вуда» нередко называют сборником или циклом, но есть все основания считать эту книгу целостной и связной поэмой. Правда, текст типографски разделен на обособленные части — тринадцать разновеликих стихотворений, каждое из которых начинается с новой страницы (два из них имеют внутренние подразделы, и в нашем издании мы воспроизводим разбивку оригинала), — однако тематическое и смысловое единство произведения, несмотря на варьируемый размер, не вызывает сомнений; нельзя не заметить также, что «Стихотворения» отличаются от «Морских мегер», первой поэтической книги Дефоре, сравнительно узким, очищенным и однородным, — можно сказать, классицизирующим, — словарем и по большей части сдержанной, даже суховатой интонацией, временами напоминающей, как и некоторые страницы прозы Дефоре, судебную казуистику. Перед нами композиционно выверенное произведение, в котором обнаруживается обычный для этого писателя набор или, лучше сказать, переплетение мотивов, имеющих, как правило, параллели в тех или иных фрагментах «Ostinato».
Важнейший из них обозначен уже в прологе (стихотворение I): это попытка найти «потерянный голос» в условиях, когда самотождественность говорящего стоит под вопросом, а опора для ее восстановления в поэтической речи безвозвратно утрачена; намеченное здесь неявное сопоставление поэта с Орфеем, отсылающее к традиционным представлениям о могуществе поэзии, тут же опровергается пассажем о безбытийности слов, их неспособности соприкоснуться с живой реальностью: «Видано ль, чтобы слова... колыхали ветви и листья, по небу облако мчали?» Далее (II–III) речь идет о неразрешимой загадке, какую представляет для сознания утрата близких, возвращающихся в снах и воспоминаниях; затем (IV) вновь возникает тема бессилия языка, которому не дано уловить образы прошлого в свои силки. Скорбь по умершим перерастает в общее размышление о смерти, о необходимости с достоинством встретить конец собственной жизни и о тщетности попыток продлить существование с помощью слов: они так же бренны, как и все, что имеет отношение к человеку; мечте о идеальном «языке, не порабощенном словами», не суждено сбыться (V–VIII). С самого начала бросается в глаза, что от стихотворения к стихотворению, как и в рамках отдельно взятых стихотворений, смысловая перспектива может модифицироваться, а иногда и радикально перестраиваться: например, в первой части самого длинного стихотворения (V) призыв к бестрепетному приятию смерти сменяется призывом не отрешаться до конца дней от земной жизни, наслаждаться ее очарованием, а во второй части негативная оценка словесной деятельности («фразы» здесь сравниваются с «камушками, брошенными в реку») переходит в рассуждение о предпочтительности речи перед молчанием, не свободное, впрочем, от горькой иронии. Смену угла зрения дает и краткая интерлюдия (IX), где неожиданно выплескивается «энергия отчаяния», помогающая поэту, несмотря на физический упадок, до смертного часа не выпускать из рук оружие слов. В следующем стихотворении тональность снова меняется: отчаяние здесь выглядит беспросветным, а пропасть, отделившая «взрослого» от «подростка», который вершит над ним свой суд, — непреодолимой (X).
Как видим, поэма, укорененная в тех же обстоятельствах личной и творческой судьбы автора, которые лежат в основе «Ostinato», дает еще одну вариацию знакомого нам дискурса: колеблясь между безличными, неопределенно-личными конструкциями и отчуждающим третьим лицом, между несхожими точками зрения и разноречивыми оценками, лирический монолог размывает идентичность говорящего, а под конец (XI) и опрокидывает ее, когда неожиданно возникающее «я» прямо обращается к Самюэлю, с которым читатель до сих пор мог отождествлять того, кто этот монолог произносит: «Самюэль, Самюэль, — хоть нет доказательств, что скрыт / Живой человек под этим именем, — твой ли / Я слышу голос...» Здесь особенно ясно, что голоса живого, реального Дефоре и фиктивного Вуда, в котором «нет ничего, кроме имени», не совпадают, хотя и тяготеют к слиянию. Как в «Ostinato», автор отстраняется от себя самого, но не порывает и не может порвать связи, обусловленной рамками вымысла. Функция гетеронима при этом проступает еще отчетливей: он присутствует в тексте лишь для того, чтобы указывать на подлинную природу поэзии, которая пытается вырваться из оков бренности, но хранит ей верность[14], для того чтобы помогать автору «в борьбе со словами». В то же время поэтический двойник остается ненадежным помощником: язык, на котором говорит Самюэль, «никогда не излечит» то «я», которое к нему обращается. В предпоследнем стихотворении (XII) вернувшаяся тема стоического примирения со смертью сменяется краткой кодой, где неожиданно звучит призыв ликовать «вместе с хором небесных созданий», а в последнем стихе утверждается, что «жизнь и пение неразличимы там, в вышине». С помощью традиционных образов, предполагающих выход «в некую потусторонность, где продолжение жизни, пусть оно и отрицается всем творчеством писателя, все же возможно»[15], здесь намечено виртуальное снятие противоречий жизни и языка, — можно сказать, что поиск утраченного голоса, начатый в прологе, в этом финальном аккорде находит условное завершение.Недаром искавший его Самюэль — тень, которую
автор «придумал и наделил именем» только для существования внутри текста, — тут же становится ненужным и в эпилоге (XIII) исчезает. Однако Дефоре и в этом случае размыкает структуру, выглядящую — в отличие от «Ostinato» — абсолютно замкнутой: окончательно овнешненный и немедленно растаявший Самюэль Вуд оставляет неуничтожимый след. Правда, этот остаточный гул, как и обычно бывает у Дефоре в финале, помещен под знак зыблющегося исчезания/появления, так как сравнивается с грозой, которая то ли приближается, то ли уходит, — но, в любом случае, именно он не дает забыть, что, перед тем как умолкнуть, искомый голос, возможно, был найден, на мгновение обрел единство и свободу. Иначе говоря, в эпилоге литература окончательно раскрывает свою фикциональную природу, но за голосом поэзии все же признается способность преодолевать ограниченность художественного вымысла.
* * *
«Ostinato» и «Стихотворения Самюэля Вуда» завершают более чем полувековой творческий путь Луи-Рене Дефоре, начавшего писать в 1940-х годах, в преддверии новой культурной эпохи, которая сосредоточила внимание на законах функционирования текста, заслонивших и поставивших под сомнение реальность говорящего человека, подлинность и устойчивость его «я». Жизнь писателя во многом совпала с этой эпохой, и его сочинения занимают в ней особое, ни с чем не сравнимое место. Своеобразие Дефоре состоит в том, что он не только предчувствовал кризис, обусловленный «поворотом к языку», «смертью автора» и подобными концепциями, — эта интуиция отчетливо выражена уже в повести «Болтун» (1946), написанной до того, как они оформились, — но попытался нащупать путь к его преодолению. Путь рискованный и в то же время глубоко честный: писатель отказался от упрощающего отрицания новых концепций и уподобился врачу, привившему себе болезнь; он сумел вживить критическую рефлексию в самую ткань своих стихов и прозы, — но не ради того, чтобы продемонстрировать с помощью слов «невозможность нашего личного присутствия на той сцене, где мы их произносим», а в надежде опровергнуть эти концепции изнутри, отыскать «в крошащемся и рассыпающемся я упрямое, таинственное нежелание сдаться, сохраняемое другим Я, которое все же — хотя сам он подчас этого опасался — не разрушилось от сознания, что ныне ему дано улавливать только смутные, неоднозначные образы самого себя»[16]. Сознательно избрав эту двойственную роль ниспровергателя и парадоксального защитника иллюзий, присущих литературе, Дефоре придал неповторимое звучание своему «пронзительному и надломленному» голосу, который с редким упорством продолжает утверждать себя в его поздних стихах и прозе.
[1] Из издательской аннотации к сборнику рассказов Дефоре «Детская комната». См. общий очерк поэтики Дефоре в моем послесловии к книге: Луи-Рене Дефоре. Болтун. Детская комната. Морские мегеры. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2007; там же приведена подробная биографическая справка о писателе. См. также: Сергей Зенкин. Парадоксы лжеца // Иностранная литература. 2008. № 5.
[2] Если исключить из рассмотрения журнальные публикации и говорить только о книгах, то «Морские мегеры» (1967) и «Стихотворения Самюэля Вуда» (1988) разделяет более двадцати лет; первые части «Ostinato» появляются в журналах начиная с 1984 г. Даже Марк Комина, автор монографии, опровергающей миф о многочисленных и длительных паузах в работе Дефоре, признает, что в 1965 г., после завершения «Мегер», тот действительно перестал писать и вернулся к литературной деятельности лишь в 1975 г. См.: Marc Comina. L’impossible silence. 1998.
[4] Dominique Rabatй. Ostinato et la question de l’achиvement //Revue des sciences humaines, № 249, 1998, P. 87, 90–91; он же, Louis-Renй des Forкts. La voix et le volume, 2002; он же, Portrait de l’йcrivain en troisiиme personne //Critique, № 668–669, 2003, P. 70–82.
[5] Maurice Blanchot. Le blanc Le noir // Louis-Renй des Forкts. Le temps qu’il fait. Cahier VI–VII. 1991. P. 231.
[6] Напомню финальные строки «Обезумевшей памяти», фиксирующие тождество и, вместе с тем, непреодолимый разрыв между подростком, чьи школьные годы описываются в этой новелле, и внезапно всплывающим «я» рассказчика, тщетно пытающегося припомнить и реконструировать прошлое, которое обречено остаться непознанным, искаженным: «Я этот литератор. Я этот маньяк. Но я, возможно, был этим ребенком».
[7] Эту черту «Ostinato» обсуждают большинство комментаторов, включая Мориса Бланшо (в уже цитированном эссе) и Ива Бонфуа. См.: Yves Bonnefoy. Une йcriture de notre temps // La Veritй de parole. 1988. P. 273–275.
[8] ...comme une langue en peine de parole jeta la bruit de sa voix au-dehors. Ср. у Данте: ...come fosse la lingua che parlasse, gittт voce di fuori. Ср. также это место и его контекст в переводе М. Лозинского: «…вы поведать мне повинны, / Где, заблудясь, погиб один из вас. / С протяжным ропотом огонь старинный / Качнул свой больший рог; так иногда / Томится на ветру костер пустынный, / Туда клоня вершину и сюда, / Как если б это был язык вещавший, / Он издал голос и сказал…».
[9] Дефоре внимателен и к внутренней противоречивости такого самоутверждения, всегда граничащего с гордыней. Эта вспомогательная тема, звучащая и в «Стихотворениях Самюэля Вуда», более подробно обсуждается в послесловии к указанному выше русскому изданию избранных произведений писателя.
[11] Как заметил он сам в упомянутом интервью, «всякому писателю... знакома эта двойственность: порыв вдохновения, с одной стороны, критический взгляд, с другой. Я бы сказал, что писание — это действие, совершаемое во мне кем-то, кто говорит в расчете на того, кто, находясь внутри меня же, слушает» (Louis-Renй des Forкts. Voies et dйtours de la fiction, Fata Morgana. 1985. P. 13–14. См. также: Bernard Pingaud. La bonne aventure. 2007. P. 91).
[13] В названии оригинала, «Poиmes de Samuel Wood» можно, вообще говоря, видеть и другой смысл, понимая его как «Стихотворения о Самюэле Вуде»; в этом случае мнимый автор поэмы сразу предстает ее персонажем. См.: Christine Andreucci. Vivre et chanter lа-haut, c’est tout un! // Critique, № 668–669. 2003. P. 64.
Фрагмент книги
Молчание, тираническое молчание, плод гордости и боязни. Все мешает теплой доверительности, ко-гда недостает сил даже на то, чтобы встретить приветливый взгляд синих глаз. Отыскать слабое место в этой броне помогут ласковые ухищрения их общего друга — того, кто исчез вдали, но оставил неизгладимый след, скрепив страшным даром своей смерти два сердца, согретых любовью, которой он помогает длиться и после своего ухода.
Здесь, в этой темной комнате, каждый раз, когда друг, так долго отстраняемый, еще внушающий недоверие, но уже горячо любимый, со спокойной настойчивостью забрасывал его вопросами, он, словно перед лицом жестокой угрозы, сидел, съежившись, в тени, готовый решительно отразить атаку, — хотя замыкался в себе не потому, что решил держать его на расстоянии, а лишь с целью скрыть свое желание включиться следом за ним в поиск согласия, которому и противопоставлял холодную ярость молчания. Впрочем, с самого начала поединка он чувствовал, что этот ум, более светлый, более проницательный и действовавший тем тоньше, чем очевиднее становилась сложность задачи, набирает очко за очком; чувствовал, что с каждым днем придется все больше уступать, а потом окончательно сдать партию, — так покоряется могучему притяжению сокол, который, прочертив в воздухе несколько замысловатых петель и медленно сужающихся кругов, камнем падает вниз и садится на перчатку, обтянувшую кулак охотника.
Никогда, однако, гость не выглядел таким безоружным, как в день свершившегося наконец переворота, да и сам он никогда не ощущал себя более защищенным, более подготовленным к удержанию позиций; все произошло неожиданно, без каких-либо предзнаменований, как будто, застигнув обоих врасплох, чья-то таинственная воля — может быть, сила взаимной нежности — ускорила развязку, которую один так же не мог поставить себе в заслугу, как другой — обвинить себя в том, что оплошал из-за недостатка бдительности или переоценки своих оборонительных талантов; правда, нельзя было и сказать, что они оба тут ни при чем: эта перемена стала для них общей наградой за стойкость, и они приняли случившееся с радостным удивлением, неотделимым от чувства совместно одержанной победы.
Он сумел прорвать кору, которой обросло это надменное сердце, склонное мгновенно замыкаться в себе, но так похожее на его собственное упрямым нежеланием отбросить детскую застенчивость. Он сумел настоять на своем, принеся ему дар высокой дружбы, поднявшей из глубин скрытной души все, что недоверчивость держала под спудом и обрекала на умирание. Этот взрыв искусственно стесняемых сил освободил гордеца от уз, им же и наложенных, и, помогая ему заново овладеть речью, восстановил давно утраченную связь между ним и миром — подлинную, сравнимую с физическим прикосновением.
Теперь говорить нужно было ему, но уже не для того, чтобы уклоняться от вопросов или маскировать опустошительный страх: с тех пор как молчание перестало быть для него укрытием, он замолкал лишь изредка, чтобы подавить волнение, мешавшее вести речь, и не нарушать тихого течения беседы, в которой все можно было выразить и помимо слов, — как будто сдержанность обоих участников не только не затемняла смысл всего, что говорилось, но делала их чудесно прозрачными друг для друга. Соединенные тем, что не произносилось вслух, понимавшие, что между ними уже все безмолвно сказано, они могли быть до конца откровенными, ведь на деле еще не было сказано ничего, да и не могло быть сказано когда-либо в будущем. Неистощимый диалог продолжался и позже, на расстоянии, во взыскательных письмах, пока под ним не подвел черту зверский указ[1], — нет, не подвел черту, а грубо оборвал, лишив его мысль главной опоры, наполнив его сердце пустотой.
Эти ярчайшие мгновения жизни навсегда вошли в состав его плоти и уничтожатся только вместе с нею. Чем же тогда объяснить столь странный способ припоминания, как будто речь идет о давно минувшей эпохе? Возможно, дело в том, что для человека, изо дня в день переживающего их заново, они приобретают такой же вневременный смысл, как иные исторические события, влияние которых на судьбы мира, поначалу признанное не слишком важным, выглядит решающим позже, когда эти события окрашиваются в памяти народов легендарным колоритом прошлого.
Покинув людей, которые выдавали себя за бунтовщиков, но оказались прирожденными рабами, он с тяжелым сердцем возвращается домой, откуда спешно ушел, чтобы к ним присоединиться. У него больше нет надежды помочь другу, который глубокой ночью угодил в сети, расставленные судьбой, и в дальнейшем пришлет лишь одно письмо, обращенное к ним обоим, призыв, дышавший редкой нежностью, как будто его смерть — смерть в полном одиночестве и в безвестном месте — означала не разлуку, а начало неусыпной заботы о тех двоих, что впредь будут существовать только благодаря умершему и соединят свои жизни, озаряемые светом его любви.
Девушка с ярко-синими глазами, которые поют, встречая его взгляд, и прожигают насквозь. Не так легко понять, печальна она или просто молчит, но можно догадаться, какую тайну теперь носит в душе: в каждом несказанном слове дает знать о своем присутствии человек, владеющий ее памятью. Когда им все же случается обменяться скупыми репликами, оживает нежное звучание его голоса,— оба они, словно заместив погибшего, любят в другом то, что любил он, и через него доносят до другого все, что хотят донести, как будто он и в этой страшной отдаленности сохранил свой поразительный дар сближения и стал единственным поручителем, подтверждающим любые слова, которые им отныне предстоит сказать друг другу.
Мягкое вмешательство: в нем нет навязчивости, нет беспрекословности; еле слышный призыв, спокойный, но вместе с тем столь радостный, что в них просыпается небывалое чувство счастья.
Это бесконечно далекое, но хорошо различимое и внимательное лицо: то и дело обращаясь к нему с вопросами, они, кажется, всегда получают точный ответ. Странное движение туда–обратно, делающее каждого из них выразителем воли любимого друга, которого больше нет на свете.
Рука, посылавшая знаки, на которые он так долго не хотел откликаться, дружеская рука, властно и бережно извлекшая его из затворничества, где он растрачивал свой яростный пыл в гибельном обществе книг, эта рука, что увела далеко-далеко и была грубо вырвана из его руки смертью, — кажется, она ведет и дальше, не ослабляя хватки, помогает ему идти таким же твердым шагом.
Теряя лицо и голос днем, он возвращается ночью, узнаваемый в каждой черточке, но взбудораженный, встревоженный, как будто перед расставанием забыл спросить о чем-то важном, а теперь, в новом состоянии, не может этого сделать, потому что язык, на котором он тогда говорил, выветрился из его памяти или не используется мертвыми.
Вдали от него, совсем далеко, но все же достаточно близко, чтобы чувствовать, как жар, излучаемый этой тенью, овевает его с прежней терпеливой настойчивостью, разъедая толщу молчания, отвечая глухим толчкам бурлящей в нем лихорадки, — так на реке при первом дыхании весны начинает трещать лед.
Живая близость, совсем не бесплотная, но не до конца принадлежащая жизни и при всей своей напряженности исключающая возможность наполниться ею по-настоящему, — как если бы выражение «обрести плоть» получило новый смысл, которому любая попытка определения придала бы лишь бульшую загадочность. К тому же близость прерывистая: друг то спешил навстречу, чтобы вывести на потерянный путь и предостеречь от ложных шагов, то, снова отступая в иной, темный мир, оказывался вне досягаемости и заставлял позабыть о его кроткой власти.
Лица умерших, неподвластные разрушительному действию времени, струят ровный блеск, словно звезды, стоящие в небе на одних и тех же местах, — еле различимые светлые пятна, замутненные и почти стертые бесконечным отдалением.
Жгучее пламя боли, не дающей уснуть, слезы, льющиеся из глубин души, которая рассечена до самого дна.
Стойкое наваждение — этот неубывающий разрыв между близким присутствием и далекой отстраненностью, поддерживаемый сомнительными усилиями памяти, которая, сколько ни старается, не может подменить собой живую жизнь и воскрешает ушедший мир только для того, чтобы его исчезновение ощущалось еще болезненней. Самообман ума: потеря так тяжела, что мысль отказывается выйти с открытым забралом навстречу непостижимой реальности, соглашаясь переживать ее только как мучительное событие своей собственной жизни.
Не вполне отсутствуя и не вполне присутствуя, он безвозвратно застыл в прошлом, у которого нет будущего, и время от времени еще просвечивает его оттуда своим сиянием, но все больше удаляется в поисках недоступного места, где мог бы исчезнуть.
Похоже, он никогда не приближался к нему так, как с помощью этого ухода, отрицаемого тем более ожесточенно, что его вообще нельзя отрицать.
Ненавистная, но благотворная иллюзия, — и чем она благотворней, тем ненавистней.
Постоянная, недремлющая боль, безразличная к тому, что может принести время, — нет, далеко не слепая, нестерпимая как раз из-за своей прозорливости.
Исчезнувший вместе с именем, под которым он покоится, и все-таки принуждаемый не исчезать до конца тем, кто, изнывая от безумной печали, старается вновь связать разрубленный узел дружбы, окликающей его только в снах, — как будто там, где больше нет тела, еще живет голос и, заменяя погибшего, зовет все громче, все чаще; умиротворяющий голос, который не дает покоя оставшемуся в живых и чей источник тот не хочет узнавать, хотя догадывается, что слышит всего лишь жалобный отзвук собственного помешательства, обреченный потонуть в столь же умиротворяющей пустоте забвения.
Стараться видеть в мире только прекрасное — обольщение, в которое впадают даже наиболее трезвые умы, и никто не повинен в этом так, как сам мир: идущее к концу столетие, нагромоздив немыслимые злодеяния, ясно показало, что в дальнейшем — если, конечно, не зажмуривать глаза, — уживаться с таким миром мы сможем, лишь жертвуя прямотой суждений, а смотреть ему в лицо — лишь до предела сужая угол зрения. Это и понятно: там, где творится столько изуверств, где на всем лежит клеймо абсолютного зла, уже простая принадлежность к сообществу живых наделяет каждого из нас почти безграничным умением приспосабливаться, обретающим достоинство какой-то религиозной веры, и не обязательно фальшивой, — если только не забывать, что на этой земле испокон веков любое здание строилось на развалинах другого, что, восхваляя красоту ее природных форм, нельзя ни стереть мерзость преступлений, ни доказать, что они были искуплены.
В то же время, не изменяй нам внезапно дар речи, мы все должны были бы криком кричать от ужаса перед кровавым спектаклем, где людская алчность заваливает подмостки трупами, проклясть его или по меньшей мере отказаться в нем играть — не просто запретить себе всяческое словоблудие, с неотделимыми от него слепотой и пресмыкательством, а вообще не открывать рта, нигде и никогда. Куда там, молчание нам тоже не по силам, ибо жизнь настойчиво требует выплескивать преизбыток слов наружу, — но почему бы им не изливаться в торжественной хвале, как ликующее пение птиц весной, оборачиваться не идиотской комедией преувеличений, а хмельным восторгом сердца, блаженным воспарением, уносящим голос ввысь... Что можно было бы возразить против этого?
Благодаря незаслуженному везению, обостряющему угрызения совести, большинству из нас не довелось стать прямыми свидетелями или жертвами немыслимых событий, о которых, ничуть не смягчая убийственной правды дистанцией ретроспективного, опосредованного знания, рассказывают документальные фильмы, — но разве можно понять то, что эти события происходили без нашего ведома? Почему, живя под тем же небом и дыша тем же воздухом, мы пренебрегали тревожными сигналами, относились к ним беспечно, как если бы жизнь шла обычным чередом? Неведение, в котором мы предпочитали пребывать не столько для того, чтобы прогнать страх, сколько по недостатку воображения — дара, посылаемого лишь благородным умам, — и которое мы никогда не будем вправе назвать истинно простодушным.
Ничем не искупить безответственности неведения.