Возможность высказывания
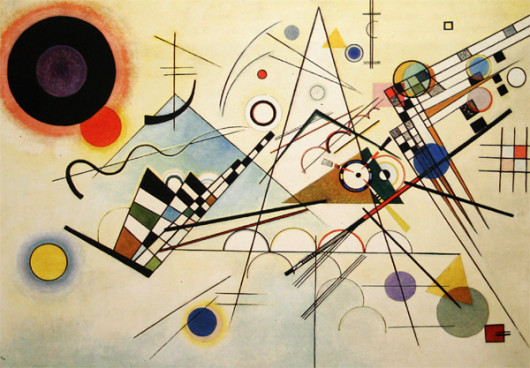
В 1936—1937 годах поэт Александр Введенский написал одну из самых замечательных своих вещей — «Некоторое количество разговоров». Второй по счету «Разговор об отсутствии поэзии» кончается серией кратких ремарок: «Певец сделал паузу. Диван исчез. Певец умер. Что он этим доказал». Вопросительный знак в конце предложения отсутствует. Автор не спрашивает, а утверждает: певец этим доказал ЧТО. Всё нижеследующее есть, собственно, попытка хоть немного разобраться в природе этого ЧТО.
Видимо, в первую очередь следует обратиться к поэтической практике самого Введенского и группы ОБЭРИУ: Объединения Реального Искусства. На слово «реальное» в этом сочетании обычно не обращают внимание, воспринимая его, возможно, как очередное чудачество авторов-эксцентриков, вроде буквы У в названии группы. В манифесте объединения (написанном, по-видимому, Заболоцким) как раз о «реальности» говорится мимоходом и с пропагандистским пафосом. Значительно более внятной и вдохновенной декларацией этой идеи стало частное письмо Хармса 1933 года: «Истинное искусство стоит в ряду первой реальности, оно создает мир и является его первым отражением».
Искусство реально, если оно осуществимо «здесь и теперь». Желаемое, воображаемое искусство превращается в «протокол о намерениях». Намерения, как правило, благие. Реальное искусство определяется реальностями языка и меняющимся отношением к слову. «Глаголы на наших глазах доживают свой век, — пишет Введенский в “Серой тетради”. — В искусстве сюжет и действие исчезают. Те действия, которые есть в моих стихах, нелогичны и бесполезны, их нельзя уже назвать действиями… События не совпадают с временем. Время съело события. От них не осталось косточек». Не случайно ревизия наличного языка, предпринятая Введенским, началась с глаголов и глагольных форм: именно глагольное управление есть чистая инерция языковых правил — иллюзия действия и действенности, не относящаяся уже ни к какой реальности.
Язык вовсе не тот послушный инструмент освоения реальности, которым он иногда представляется. Очень существенна (и очень опасна) его способность устанавливать собственные законы, существовать по этим законам и порождать какую-то новую реальность, ориентирующуюся только на язык. «Производство реальности» уходит в мир языка. Во власти языка оказываются и мышление человека, и — что самое главное — чувство реальности. Язык постепенно начинает его присваивать.
Для обуздания подобных претензий сознанию нужен какой-то новый инструмент, в идеале — второй язык: язык общения с языком. Можно заметить бурное, взрывное усложнение и абсолютизацию всех рефлекторных свойств языка, выделение их в отдельную саморазвивающуюся структуру. Заметно также, что этот зачаток другого языка еще не осознает своей принципиальной новизны и заимствует прежние языковые формы. То есть подчиняет их другой функции, делает двусмысленными. На подобное двойное напряжение первым начинает реагировать именно поэтический язык, сущностно связанный с таким словом, которое соединяет в себе энергию и мысли, и поступка.
Искусство — поиск действенного языка, языкового действия. Любое разобщение этих областей (языка и действия) ощущается автором прежде всего как затрудненность или невозможность прямого художественного высказывания. А самой насущной его задачей становится выяснение того, означает ли это разобщение невозможность любого высказывания — высказывания как такового. Насколько законно побуждение к честному молчанию, следующее за осознанием новой речевой ситуации?
Такое экспериментальное выяснение начали сами обэриуты. Их поэтическая практика ни в коем случае не сводима к чисто деструктивным опытам, но как раз их легче заметить и проще описать. Можно перечислить несколько клишированных определений такого рода: абсурдизм, распад смысловых связей и т. д. Признаки распада как будто налицо, но эмоциональное впечатление понятию «распад» совершенно не соответствует. Здесь явно присутствует новый строй, новая связь через смысловые зияния — нередуцируемые сгущения ощутимого смысла (это, при всех различиях, близко и практике позднего Мандельштама). Единственно возможная (линейная) связь заменяется пучком возможностей. Природа этих зияний кажется таинственной. Ее трудно описать, но легко почувствовать.
Работа обэриутов не разрушает язык, а деидеологизирует его. Не язык должен владеть сознанием, а сознание — языком. Обэриуты пытаются отобрать у языка власть. Принцип изложения и сами грамматические способности языка трансформируются наподобие того, как реальность трансформирована в сновидении. Всю эту стиховую практику можно представить вещим сном о новых художественных формах.
После разрушения прямых логических связей слова остаются как бы сами по себе. В пустоте. Стихи обэриутов — это испытание пустоты на возможность высказывания. И в мысли, и в словесной работе эти люди так отчаянно идут навстречу пустоте, что та — нет, не исчезает, — но как будто редеет. Начинает казаться, что всё не кончается пустотой, что она проницаема.
В деятельности обэриутов есть идеальная, утопическая основа. Это своего рода руссоизм: возвращение к природе языка, к его стихиям и первоэлементам. «Сила, заложенная в словах, должна быть освобождена», — записывал в свой дневник Хармс. В самой природе слова есть неминуемая связность, которая так или иначе восстанавливается. Но восстанавливается на другой основе. Это уже не связи, навязанные словам, а собственные, естественно-присущие связи слов. Они становятся косвенными, скользящими. Течение речи напоминает струение песка в песочных часах. А еще больше — течение времени. Не случайна эта завороженность временем, свойственная и обэриутам, и их ближайшим друзьям-собеседникам. «Мы хотим распутать время, зная, что вместе с ним распутывается и весь мир, и мы сами. Потому что мир не плавает по времени, а состоит из него» (Л.С. Липавский «Разговоры»). Кто скажет, что время не реально? Но его реальность явно иной природы. Обэриуты учились у времени тому, что такое другая (подлинная?) реальность и что такое реальность искусства.
В практике ОБЭРИУ есть что-то страшно притягательное, необыкновенно насущное. Притягательность отчасти объяснима тем, что весь недолгий период их работы пришелся на «советские» годы, и в жизненных обстоятельствах есть хоть что-то общее с нами. Конечно, это были люди другого мира. Они говорили о точности и ясности. Можно сказать, что они бредили точностью и ясностью, понимая, что их мира больше нет, остается только описывать его распадение на атомы, ни один из которых не отличен от другого, всё можно соединить со всем, каждое с каждым. Как странно читать в «Разговорах»: «Под конец спор о том, нужно ли считаться с направлением истории, спор длинный и бесплодный». Еще бы не бесплодный! Еще бы они постановили «нужно» (или наоборот).
Конечно, говоря о сходстве жизненных обстоятельств, нужно соблюдать осторожность. И все-таки обэриуты — наши дальние родственники в историческом существовании. Не вовсе инопланетяне.
Основная проблематика деятельности обэриутов, так сказать, экстерриториальна, но ее специфику допустимо связать с условиями подсоветского существования. И эта специфика по-своему перетолковывает тему «высказывания», вызывает к ней болезненно-обостренное внимание. В его основе находится некое уникальное подозрение, что мы живем в совершенно особых и небывалых условиях. Что всё это есть тихий, замедленный конец света (именно «не взрыв, а всхлип», по Элиоту), когда жизнь постепенно кончается, постепенно оставляет одну за другой разные области существования, начиная, естественно, с высших. Например, с поэзии.
Поэт вообще склонен считать себя скорее инструментом языка, чем демиургом, но в наших условиях такое самоощущение особенно обострилось. Автор стал относиться к себе как к датчику показаний. И каких показаний! Показаний о справедливости или несправедливости этих чудовищных подозрений.
В какой степени искусство продолжается по инерции, просто в силу собственной живучести? Доводы сторонников негативного толкования звучали достаточно убийственно. И их неосновательность, надо сказать, до сих пор не так уж очевидна.
Понятно, что в таких условиях каждая художественная удача не только факт искусства, но и некая благая весть о том, что жизнь не оставила нас окончательно, что власти (читай: смерти) рано праздновать полную победу. Понятно также, что это должно было существенно изменить отношение к поэтической работе. Центральным становится вопрос о подлинности удачи.
Точный определитель подлинности в искусстве, как известно, отсутствует. Но у нас его отсутствие по разным причинам еще очевиднее. Этих причин много. Едва ли не основная состоит в том, что описанное выше ощущение жизненного разрыва, уникальности жизненных условий плохо приживается в поэтической практике. Она почему-то считает себя законной наследницей всех имеющихся в наличии художественных средств. Очень немногие литераторы чувствуют, что средства перешли к ним по ложному завещанию, что мы владеем ими фиктивно, умозрительно, а по существу, они находятся в той же области желаемого, что и художественная цель. Это ощущение изначальной незаконности своего литературного существования не является, конечно, искомым определителем подлинности, но каким-то разделителем всё же является. Оно хотя бы делит авторов на две количественно неравные группы. Представителей большинства можно заподозрить в культурной невменяемости, но на их стороне по крайней мере одно обстоятельство, настолько существенное, что здесь его можно описать только в общих чертах.
Это обстоятельство — художественная ситуация 50-х — начала 60-х годов, для которой слова «пустыня» и «выжженная земля» не будут слишком сильными. Сам образ поэта нужно было создавать заново. По аналогии, по примеру. Ходить за примерами при живых Ахматовой и Пастернаке было не так далеко, но похоже, что их реальные очертания уже невольно затенялись новой ролью великих Свидетелей: свидетелей того, что Серебряный век действительно существовал. Именно поэты Серебряного века (в основном акмеисты) стали главными культурными героями той среды, которая возникала из небытия. Их жития складывались по крупицам из редких мемуаров, часто апокрифических, или устных легенд, чтобы снова разойтись на подобия притч. «А Гомера печатали? А Сафо печатали?» Вот на таких опорных точках строился новый ритуал, возникала новая культурная стратегия, новая норма. Несовпадение нормы и обыденности внутренне оправдывалось тем, что окружающая жизнь была по всем признакам как раз анормальной, бредовой. Всё нормально-обыденное осталось за дальними временными границами, и рассчитывать можно было только на то, чтобы уловить эхо, идущее оттуда — из Серебряного века, из рая цветущих художественных возможностей. То, что развитие было репрессивно оборвано, сделало цветение вечным. Достаточно было просто обернуться назад.
Но у этого культурного феномена есть и другая, как бы теневая сторона. В той среде, которую мы описываем, реакция отталкивания от условий существования имела не только личностный, но и культурный, то есть типизированный характер. Требовалось только обратиться к культуре, войти в ее ритмы, и возможность ответа была почти обеспечена. Любой порыв, интенция, даже художественный жест, попав в пространство существующей культуры, сразу же становились культурными событиями. В этом освещении всё представало как оформленное и сложившееся явление. Но вот что важно: эти вещи становились культурными событиями, еще не став собственно событиями. Еще не став самими собой.
Понятно, что такая «культурная реакция» (по определению А.М. Пятигорского) явилась тяжелейшим испытанием для художественной практики. Именно для нее губительна всякая готовая форма, даже та, что готова только в общих чертах или приблизительно намечена. Само обращение за ответом к культуре есть обращение к области опробованных форм. Эта сфера может предоставить открытое множество возможностей, но любые мыслительные или художественные маневры (даже самые изощренные) не могут не быть хотя бы отчасти воспроизводством культурных клише. И художнику необходимо приложить невероятное усилие, чтобы не воспользоваться ни одной из возможностей или воспользоваться особым, нетривиальным образом. 60-е годы дают нам примеры таких удач. Можно вспомнить, например, поэтическую практику Станислава Красовицкого или Михаила Ерёмина: образование языка, самим строем, каким-то естественным герметизмом отчуждающего неиндивидуальную реакцию.
И дробь це больших прожекторов
Стоящих валит с ног на тень.
Подобный обескниженной этажерке
Парит би-Планк над Т Ньютона,
Над часовыми, значительными, как пожарные,
Над живородящими тополями,
Над белковым покровом России,
Библиотекой и футбольным полем.
(Михаил Ерёмин, 1963 год)
Эти рассуждения как будто подводят нас к теме стилизации: стилизованного существования в жизни и в литературе. Но тут нужно сделать оговорку. Стилизация — совершенно законная форма литературной работы. В игре стилями есть скрытая (или откровенная) пародийность, часто замечательно продуктивная и вообще соответствующая духу времени, отторгающего любой канон и даже доминантный стиль как тоталитарный диктат. Но в нашем случае речь идет о той неосознанной стилизации, когда поэтическая риторика собственной инерцией (как бы помимо автора) стилизует, а по существу, симулирует высказывание. В навыке стихосложения возможность рядовой «технической» удачи настолько разработана, что для настоящей уже не остается места.
Подытоживая, можно сказать, что автор 50—60-х годов находился в ситуации не только крайне сложной, но и двусмысленной. Эта ситуация не предоставляла ему других явных опор, кроме культурной традиции, но и та оказывалась своего рода ловушкой: апробированные формы творческой реализации не воспринимались как навязанные, но — как единственно возможные. Реализация такого рода подталкивала и автора, и его читателя к ложной самоидентификации: и тот, и другой начинали невольно отождествлять себя с современниками Серебряного века. Личное самостроительство, то есть некий бытийственный эксперимент индивидуального проживания, получало почти неограниченные возможности тавтологической подмены. Ложная самоидентификация задает привычное, почти автоматическое соскальзывание в чужую ситуацию и прожитую, тавтологическую форму. Эксперимент теряет всякий смысл.
На усиление и закрепление этих обстоятельств работало и тягостное ощущение своего времени как пустого промежутка. Не то чтобы история кончилась, но мы-то попали в ее воздушную яму. Собственная жизнь казалась выморочной, лишенной существенных оснований, заведомо вторичной — второсортной. Даже такие вещи, как страдание, отчаяние, страх, не могли восприниматься как подлинные. Они были только бледной тенью страхов и страданий предшествующей эпохи. «Тому не быть — трагедий не вернуть», — сказал Мандельштам в 1937 году, и мы не могли не чувствовать силу и справедливость заклятия. Это странно звучит, но в какой-то период (скорее уже в 70-х годах) почти отсутствовало ощущение, что что-то происходит на самом деле. Какая-то загадочная утрата сознания. Пауза исторического времени парализовала историческое мышление, а никакой другой тип сознания (например, мифологический) не мог заменить его целиком, хотя какие-то уродливые пробы можно было заметить. Сознание дублировало мнимое отсутствие исторического времени. В условиях полной предсказуемости общего будущего сознание лишается интригующей практики угадывания и выбора. По существу, оно лишается настоящего (а вместе с ним и собственной природы). Настоящее отсутствует в обоих значениях этого слова: и как настоящее время, и как подлинность. Мнимая действительность и действительная мнимость уже неразличимы.
Что же происходит с автором, лишенным собственного настоящего? Можно предположить какую-то прямую зависимость между неочевидной возможностью жизни и установочной невозможностью высказывания. Но реальная зависимость вовсе не прямая, скорее обратная. В действие вступает третья сила: необходимость. Необходимость высказывания существовала безусловно, ее не могло отменить даже странное ощущение, что говорить, в общем, нечем, что всё пространство поэтической речи автоматизировано, а прямой — национализировано. Старыми словами ничего нельзя сказать.
Вся нереализованная напряженность, весь драматизм переносятся из жизни в пространство языка. Там-то всё и решается. Именно там невозможность должна подтвердиться, или исчезнуть перед очевидностью литературной удачи. Исчезнуть «здесь и сейчас», в данной точке приложения усилий.
Нужно понять, как остро и мучительно осознаются такие вещи в ситуации, где подлинность существует только «на кончике пера». Возможность высказывания, в сущности, равна, равноприродна возможности существования. Автор художественно решает ту главную, если не единственную задачу, которая стоит перед любым человеком, перед каждым. Он берется доказать, что реальность существует.
Пафос этих рассуждений останется совершенно неосновательным без отсылок к поэтической практике, по крайней мере к первым очевидным удачам новой литературной эпохи. Самое верное решение оказалось, как всегда, и самым непредсказуемым, и самым простым. Каким бы ни было выморочным существование носителей языка, у самого языка есть своя, так сказать, реальная жизнь: обиходная или «внутренняя» речь. Это как раз та область, где высказывание безусловно существует, это его естественная среда обитания. Можно возразить, что не о таком высказывании шла речь, что есть высказывание и Высказывание. Но в языке нет ничего заведомо значительного. Любую, самую случайную бытовую реплику можно рассматривать как неуслышанное Высказывание. Новая задача художника состоит в том, чтобы услышать и сказать услышанное. Не повторить, а заново сказать. Эта операция по сути своей уникальна и не поддается воспроизведению ни по каким рецептам, даже по авторским. В этом ее принципиальная новизна: механизм удачи невоспроизводим ни в одной своей части. Именно поэтому такая практика наименее зависима от описанной выше «культурной реакции», то есть от невольной и неопознанной тавтологичности. Она имеет повышенный иммунитет к мгновенному омертвлению и максимальные шансы избежать авторского произвола.
В чем же сущность такой операции? В том, чтобы поймать речь на Высказывании. Найти точку, где сознание спонтанно, почти непроизвольно совмещается со словом, подтверждая свое существование в мире блуждающих призрачных знаков. Для обозначения такого совмещения очень подходит слово «ситуация». Ситуация — это то, что происходит сейчас. Это обретенное настоящее.
Привести какой-то один показательный пример неимоверно трудно. Ну, может быть, такой, из Яна Сатуновского:
Осень-то, ёхсина мать,
как говаривал Ваня Батищев,
младший сержант,
родом из глухомани сибирской,
павший в бою
за свободу Чехословакии.
Осень-то, ю-маю,
все деревья в желтой иллюминации.
1946 г.
Пример, вероятно, несколько шокирующий. И это стихи? Да, как раз это стихи. Это высказывание языка, а не высказывание с помощью языка, именно поэтому здесь не нужны и даже невозможны эмфатические усиления, риторические фигуры. Появление гармонии вне и помимо риторической плоти (вроде улыбки без кота) кажется чудесным. Это улыбка формы, немного лукавая. Может быть, главное свойство новой гармонии — ее уклончивость, как бы двойное кодирование. Как всякое чудо, она лишена общеобязательной убедительности. Автор предлагает считать свои вещи стихами, но окончательное решение оставляет на наше усмотрение. Эта предоставленная свобода и нас, читателей, внезапно выводит-выталкивает в художественное пространство. Мы понимаем, что поэзия вольно и неопознанно живет среди нас. «Не знаю, кто еще так умеет ловить себя на поэзии…», — сказал о Сатуновском Всеволод Некрасов. (Сказанное, впрочем, относится и к нему самому.)
Мы уже вводили в текст слово «ситуация». Это один из ключевых терминов новой поэтической практики. Есть еще один термин, столь же распространенный: жест, художественный жест. Можно обратить внимание на то, что оба центральных термина имеют отношение к драматургии, к театру, как бы оттуда и заимствованы. Это, разумеется, не случайно. И восприятие художественного произведения как счастливого стечения обстоятельств для театра более традиционно (даже более естественно), чем для литературы. Спектакль — это то, что случается или не случается. Возникает как событие и существует в течение небольшого отрезка времени. Кроме того, материал театра предельно сближен с видимой реальностью, и художественная задача состоит в переключении восприятия.
Выход в смежные с литературой зоны требует от автора новых качеств. Например, артистизма (тоже, кстати, понятие, близкое театру). Понятно, что имеются в виду не особые человеческие способности, а артистизм как источник формы. Артистизм слуха, внимания, восприятия. Повышенная способность интонирования, почти мимическая нюансировка интонации. При этом читатель незаметно для себя превращается (хотя бы отчасти) в слушателя, в зрителя. Даже при чтении «с листа» ему необходимо что-то услышать и увидеть — самому воспроизвести авторское исполнение. Меняется и функция текста: в нем должен быть заложен способ прочтения. То есть у произведения появляется новая забота: угадывание своих отношений с читателем-слушателем, организация способов своего бытования.
Эти характеристики отчасти приложимы к практике многих поэтов (тех же Сатуновского и Некрасова), и есть по крайней мере один автор, чья совершенно индивидуальная поэтика артистична по преимуществу. Это Лев Рубинштейн.
·
— Из-за границы привезли.
·
— Закрыто. Санитарный день.
·
— Прием с двенадцати до трех.
·
— Так и сказал: «Из КГБ»?
·
— Не слышно? Я перезвоню.
(Лев Рубинштейн «Появление героя»)
·
Другой голос: «Так вот, представьте себе, с неизменной своей улыбкой и прошел он через все эти круги. Не человек — уникум какой-то. Сколько живу — таких не видел…»
·
Другой голос: «Он ее, между прочим, тоже терпеть не может. Так что вы зря…»
·
Другой голос: «Да нисколько вы мне не помешали, уверяю вас. Сейчас вот только точку поставлю…»
·
Другой голос: «Облаков несуетная поступь…» Как там дальше, не помните? Да… Давно это всё было…»
(Лев Рубинштейн «Всё дальше и дальше»)
Считается, что если написать через дефис «поэт-концептуалист», этим будет сказано если не всё, то почти всё. Но концептуализм — это методика, а не поэтика. Если рассматривать концептуалистов купно, группой, они сразу начинают заслонять друг друга. Это авторы не просто разные, а принципиально разные, но в ситуации конца 70-х годов какое-то общее свойство свело их вместе, позволило говорить о группе и новом художественном методе. Все почувствовали, что готовится смена литературного режима. Когда каждая вещь пишется как последнее завещание человечеству, пишущую руку сводит судорога великой ответственности. Вот эту судорогу, ставшую для поэзии чем-то вроде «привычного вывиха», у кого-то ослабило, а у кого-то вовсе сняло появление концептуализма с его программным уклонением от личного высказывания. Настаивая на слове «программное», я вовсе не хочу сказать, что в своей практике концептуалисты возвращаются к личному языку и традиционному авторству. Если и возвращаются, то на другом уровне, как бы в другом агрегатном состоянии художественности. Это не отказ, а именно уклонение от обязательности высказывания, от заведомой определенности художественного задания.
Концептуализм можно рассматривать как некий уникальный способ художественной рефлексии, когда источник вынесен за пределы рассмотрения, а объект теряется в бесконечной перспективе. «Каждое понятие, самое простое и самое научное, всегда как бы смеется над самим собой…» (Х. Ортега-и-Гассет «Восстание масс»). Вот этот беззвучный смех понятий (который может наконец как-то проявиться, обнаружиться) — суть концептуального метода, источник бесконечного кружения комментария, пытающегося схватить собственный хвост.
Метод не отменяет, но перераспределяет авторство, выявляет его зависимость от языка и восприятия. Переносит художественную функцию в область отношений и умозрительных категорий и предлагает (в идеале) обходиться без слов, то есть без своих слов. Важно понять, почему поэтическая практика концептуалистов так интересна, хотя основное их предложение, по существу, не проходит. Но это тема для отдельной статьи.
Ограничимся утверждением, что отношение к слову и высказыванию изменилось, и что мы существуем в, так сказать, постконцептуальной действительности. Это выражение кажется мне допустимым, хотя из него как будто следует, что деятельность четырех авторов изменила всю художественную ситуацию. Возможно и такое предположение, но сейчас речь о другом. Можно избежать многих недоразумений, если понимать концептуализм не как школу, а как проблему. Проблему не одних концептуалистов, но общего состояния художественного языка. А именно: видимая невозможность его существования в привычных формах. Именно видимая, то есть предполагаемая, если не мнимая. Эту проблему решают так или иначе все, кто с ней сталкивается. А сталкивается с ней, вероятно, каждый автор, понимающий, что он и Орфей находятся в разных ситуациях. Но концептуалисты решают ее наиболее внятно и доходчиво. Настолько доходчиво, что неопознанный концептуальный подтекст обнаруживается и в деятельности многих авторов, искренне считавших себя далекими от этой проблематики. Их сознательная ориентация на традиции, не имеющие ничего общего с концептуализмом, не исключает (и делает более показательным) подспудное вовлечение в круг художественных проблем, являющихся прямой прерогативой концептуального искусства: особая эквилибристика отношений между текстом, автором и читателем; вытеснение личного стиля чужим, даже враждебным и т. д. И это как будто отнимает у концептуализма возможность быть замкнутой школой.
Собственно, на последнем мало кто настаивает. «Любое обращение к читателю, любая игра приемом при открывании механики — как это сделано — это уже и концептуализм» (Вс. Некрасов). Но самый общий вопрос звучал бы, пожалуй, так: как обращаться со словом, заведомо откуда-то изъятым, безусловно взятым в кавычки? Может быть, при таком подходе любая сознательная работа становится концептуальной?
Принципиальное различие, видимо, состоит не в понимании проблемы, а в отношении к закавыченности слова. Одни авторы стараются узаконить это состояние и сделать кавычки естественно-необходимым условием высказывания. Кавычки становятся настолько широкими, что читатель уже способен поместить туда и себя самого — свое восприятие. То есть «непосредственное впечатление» воспроизводится на новом уровне, отпадает необходимость в комментариях или явной демонстрации стратегии, что и было маркой концептуального метода. (Надо сказать, что конструктивная, нарочитая фиксация кавычек в концептуальной практике теперь, по прошествии времени, воспринимается как жест скорее снятия, чем утверждения полной закавыченности языка. И это не парадокс. Настаивая на подлинности собственных рефлексий, концептуализм разрывает замкнутый круг тотальной неподлинности.)
Можно заметить в текущей литературной практике признаки общего сдвига системы восприятия, усиление внимания к тем риторическим приемам, которые подчеркивают условный характер текста: аллюзивность и цитатность, мозаичное соединение текстов с разным эстетическим кодом, выявление комбинаторных игровых возможностей, существующих в самом языке. Такие признаки станут заметнее, если рассматривать как единый текст весь корпус вещей одного автора за определенный отрезок времени (а это корректное допущение). Даже у «традиционных» авторов можно заметить стилевой разброс, стилевую неприкаянность: не отступление от доминантного стиля, а его отсутствие. Авторским стилем становятся особенности предпочтения или скорость чередования.
Что же в таком случае считать «произведением»? Видимо, произведением (то есть репрезентативным «текстом») становится не отдельная вещь и даже не корпус, а поэтика в целом. Можно возразить, что как раз в этом нет особой новизны. Новизна скорее в расширительном толковании термина «поэтика», которое, помимо литературных фактов, включает еще всю систему разноприродных авторских жестов и в первую очередь все варианты выбора и отказа. Но и в этом как будто нет ничего принципиально нового: авторов прошлого тоже можно рассматривать с такой точки зрения. Вероятно, подлинной новацией является сама эта точка зрения. Ее безусловная актуальность говорит что-то очень существенное о новой ситуации.
Особая сложность выбранной темы состоит в том, что совершенно невозможно закончить статью каким-либо заключением. Тему невозможно сдать «под ключ», она жаждет остаться открытой. И совсем не хочется этому сопротивляться, скорее следовать и помогать. Так, чтобы к финалу открыть тему как можно шире, автор решается высказать одно смутное подозрение: игра с кавычками небесконечна, варианты могут быть скоро исчерпаны.
Отказ смириться с властью кавычек, с их несомненной обязательностью, кажется теперь вызывающим. Программное основание вызова довольно шатко: это всего лишь убеждение, что в искусстве не может быть ничего обязательного. Любая обязательность и неотменяемость наводят на эту область плотную тень уныния. Делают ее соприродной прочим.
Беда в том, что мы живем в эпоху тотального «постмодернизма». Наша интуиция чувствует вещую правду в убеждении, что любая оппозиция определена слишком жестко, что в самом мышлении оппозициями есть какая-то ловушка. Но и в новых установках, на первый взгляд таких обескураживающе убедительных, постепенно обнаруживается страшно знакомая агрессивность победивших стереотипов. Постмодернистское сознание исходит из того, что мир изменился принципиально: изменился смысл всех явлений, никакой подлинности нет ни в чем. Это неочевидно. Гербовой печати на таком заключении мы пока не видели.
Что-то не дает смириться, например, с пониманием искусства как проблемы восприятия и только восприятия. Оно кажется сомнительным, даже ошибочным, потому что в какие-то моменты перестает работать. Ошибка, возможно, в неразличении, неотделении художественного текста от не-художественного. Не-художественный текст, равный среди равных, существует в силу общественного договора о значительности (с одной стороны) и условности (с другой стороны) любого высказывания. Художественный текст нарушает оба пункта одновременно. Он просто отменяет этот договор, являясь реальностью в большей степени, чем любые договоры и даже договаривающиеся стороны.
Художественным событием становится то, что отменяет данность и устанавливает новую возможность. Преодоление кавычек — одна из вероятностей невероятного события. Новое всегда ищет исключительную, исключенную возможность и вырывает ее из области молчания (или шума, который можно рассматривать как особое «шумное» молчание). Этот язык на границе молчания, у «края ночи», переходит в ведение других стихий. Слово может быть изъято из структур определенного, состоявшегося, «установочного» языка и взято заново как материал для неведомой речи. (Об одной возможности мы уже говорили: это сниженная или «внутренняя» речь. Она располагается как бы ниже того уровня, где возможны кавычки.) Чтобы родиться заново из пены языка, слово должно пройти стадию невменяемости, языкового расплава, только после этого обнаружится возможность непредсказуемых связей. Но это будет уже «другое» слово.
Такая мутация самой поэзии, побуждаемая мечтой о совершенной адекватности, и есть ее «внутренняя» речь. Поэзия говорит что-то своим движением, изменением. Это всегда существование на грани, на границе — между озарением и инерцией, между нормой и ее разрушением, между жизнью языка и просто жизнью.
1993 г.
Статья опубликована в книге поэта и критика Михаила Айзенберга "Оправданное присутствие" (М.: Baltrus, Новое издательство, 2005). Печатается с разрешения автора.