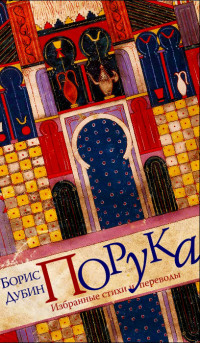«Порука: избранные стихи и переводы»
Место издания
СПб.Языки
РусскийГод издания
2013Кол-во страниц:
304ISBN
978-5-89059-189-0Колонка редактора
Несколько слов в пояснение
Это не предисловие, а что-то вроде короткой биобиблиографической справки. Стихи, выборочно включенные в данную книгу, были написаны между 1968 и 1977 годами и никогда — ни в ту пору, ни позднее — не публиковались. Более или менее регулярно их видел, точнее, слышал, а уже потом «читал глазами» лишь один человек, мой ближайший друг и постоянный внутренний собеседник тех лет, поэт Сергей Морозов (1946–1985); добавлю, что его собственная аудитория в те годы, насколько знаю, была не многим шире. С 1978-го стихи у меня больше не писались, и сегодня я уже осознаю себя не столько автором тех слов без отклика и продолжения, сколько их публикатором, — из области настоящего они необратимо перешли в план памяти. Характерная трудность: ума не приложу, как это все сейчас называть — «поэзия», «стихотворения», «творчество»? «Кто сумел бы сказать теперь „я — поэт“?» (Морис Бланшо). Язык не поворачивается, и все дальнейшие номинации на этот счет просьба считать вынужденной условностью.
Так или иначе, вряд ли здесь и сейчас стоит предаваться анализу тех стихов, да и не мне, наверное, этим заниматься. Скажу только, что написанное в те десять лет было, с одной стороны, попыткой уйти от словесной манеры прежних сочинений 1964–1966 годов (приглашаю обратить внимание на плотность временнуй материи), условно говоря, от поэтики группы СМОГ, к которой я был близок, с ее энергией самоуничтожающегося эмоционального взрыва и бешеной, бесконечно нагнетаемой метафорикой (непревзойденным образцом такого бикфордова соединения были тогдашние стихи Леонида Губанова), а с другой — диктовалось изменившейся, по всем ощущениям, атмосферой и акустикой времени во второй половине 1960-х. У меня и моего друга — тем более в нашей с ним изоляции от какой бы то ни было публичности и групповой принадлежности — стремительно нарастало чувство неудержимого отчуждения едва ли не ото всего тогда происходившего. Я переживал это как уход (неизвестно насколько, но в любом случае надолго) в частное существование, в семью, самостоятельное чтение, думание без подсказки. Такие же мне были нужны тогда и стихи — ни к каким традициям не отсылающие, опирающиеся только на себя, на прямой и напрямую, без готовых поэтических костылей, входящий в них как бы документальный опыт жизни моего ближайшего окружения (задача «хранить культуру» меня никогда не привлекала). В нескольких строчках, не доросших до стихов, я сформулировал это как «снимок один к одному, / зрение прозы». Задача, понятно, утопичная; может быть, ее неразрешимость, вместе с замыканием автора в себе, отчасти объясняет, почему новых сочинений в стихах вскоре не стало.
Переводные вещи начали понемногу прорастать сквозь мои собственные с 1970 года[1]. Решающим толчком здесь стал опять-таки Сергей Морозов, переложивший в то время несколько стихотворений Гейне и Ленау, — мне захотелось с ним по-дружески посоревноваться. Я начал с Бодлера — с не удавшихся в целом, как вскоре понял, переводов его «Благословения», «Путешествия на Киферу», пяти-шести сонетов; но первыми опубликованными оказались стихи Теофиля Готье, появившиеся в 1972 году, которым, собственно, и можно датировать начало моего существования в печати, в первую очередь — книжной. Со временем переводная работа стала главной и как бы отодвинула или даже заместила собственные сочинения. Позже Анатолий Гелескул, с которым мы познакомились в том же 1970-м и который надолго сделался моим внутренним ориентиром в переводах (да и в большинство переводческих начинаний тех лет меня вовлек именно он), в ответ на вопрос о его «оригинальных» стихах, как обычно, без эмфазы обронил: «Переводчик съедает поэта, а потом и человека».
В эту книгу я включил в основном избранные переводы начальных пятнадцати лет работы — сделанные, в абсолютном большинстве, до 1985 года, хотя некоторые из них были напечатаны позже; затем я начал все больше переводить прозу и на несколько лет даже целиком перешел на нее (правда, по преимуществу скорее близкую к поэзии, в любом случае — «промежуточную», как выразилась бы Лидия Яковлевна Гинзбург). Легко видеть, что поэзия, переведенная за тогдашнее пятнадцатилетие, так или иначе укладывается в хронологические рамки европейского «высокого модерна» — с середины XIX века до Второй мировой войны. Более отдаленные хронологически испанское средневековье и Ренессанс оценены и восприняты здесь, конечно, через посредничество двух позднейших выдающихся поколений испанских лириков — поколений 1898-го (Мачадо) и 1927 года (Лорка). Выше я упомянул о том, что чувство авторства по отношению к стихам 1970-х для меня в большой мере под вопросом. Тем больший вопрос, кто же, собственно, является «автором» переводов — этих да и любых других (в какой-то мере я пытался ответить на него в работах по социологии литературы и в связанных с ними статьях о новейшей поэзии и о переводе[2]).
Таким образом, перед читателем — своего рода археологический пласт литературных сочинений, в общем, уже достаточно отдаленной эпохи. По хронологии он относится ко времени до 1990-х и «нулевых» годов, но приобретает книжный вид только сейчас, — случай характерный, однако, по особенностям време-ни и места, не такой уж редкий в России. Для автора этот пласт включает примерно пятнадцать–двадцать лет середины жизни (как считают социологи, таков срок активной деятельности одного поколения); если же говорить об отечественной истории, то это ее позднесоветский период.
В этом смысле обе «половины» книги составляют, по крайней мере — для меня, некое условное целое, каждая — свое. Я хочу сказать, что внутри этого целого не вижу каких-то разительных перемен, хотя определенная анизотропия — разворачивание смысла в разные стороны, в разных темпах — и в стихах, и в переводах, мне кажется, есть. Только я бы говорил тут не о развитии (метафора «бородатого развития», как припечатал Мандельштам, вообще, по-моему, малопригодна для искусства, тем более — современного), сколько о метаморфозе. То есть опять-таки о переводе, но понятом не как профессиональная отрасль словесного производства, а как движущее начало осмысленного существования.
Борис Дубин
[1] Более подробно об этом см. мое интервью 2001 г. Елене Калашниковой (http://old.russ.ru/krug/20011026_kalash.html) и очерк «Как я стал переводчиком» (Иностранная литература. 2006. № 6. С. 264–271).
[2] См.: Дубин Б. Автор как проблема и травма: Стратегии смыслопроизводства в переводах и интерпретациях М. Л. Гаспарова // НЛО. 2006. № 6 (82). С. 300–309; Дубин Б. Мистика оригинала // Книжный квартал. 2008. № 4, 12 декабря; Dubin B. Translation als Strategie fьr literarischer Innovation // Kultur und/als Ьbersetzung. Russisch-deutsche Beziehungen im 20. und 21. Jahrhundert/ Christine Engel, Birgit Menzel (Hrsg.). Berlin: Frank & Timme, 2011. S. 177–188; Дубин Б. Тяга отсутствия (о переводах Юрия Чайникова)// http://belyprize.ru/?pid=451.
Презентация книги состоится 8.04 в клубе «Дача на Покровке»
Из книги:
Федерико Гарсиа Лорка
(1898–1936)
Тополь и башня
Тополь и башня.
С тенью живою —
вычерченная веками.
С тенью в зеленых руладах —
замершая в отрешенье.
Непримиримость ветра и камня,
камня и тени.
Антонио Мачадо
(1875–1939)
Лунная радуга
Дону Рамону дель Валье-Инклану
Горами к Мадриду поезд
дорогой ползет ночною.
Луна в разноцветном круге
сияет над крутизною.
Клокастые тучи в небе
с апрельской ясной луною!
Ребенок, приткнувшись к маме,
уснул в толчее вагона
и видит, как на закате,
мелькающий луг зеленый
с червонными мотыльками
и залитой солнцем кроной.
А мать исподлобья мерит
грядущее и былое
и видит паучьи сети
над выстывшею золою.
Сосед же вернулся взглядом
из бог весть какого рая
и что-то жарко бормочет,
глазами чужих стирая.
Мне видится дол под снегом
и сосны другого края.
А Ты, нам открывший вежды, —
в душе различая каждой,
уверь нас, что лик Твой сущий
увидим и мы однажды.
Константинос Кавафис
(1863–1933)
Жрец Сераписа
О добром старике, моем отце,
всю жизнь меня любившем с той же силой,
о старике-отце я горько плачу,
позавчера умершем на заре.
Исус Христос, мой ежедневный труд —
ни в чем не поступаться предписаньями
Твоей святейшей церкви в каждом деле
и в каждом слове, даже в каждой мысли.
Любого, кто отрекся от Тебя,
я сторонюсь. Но я сегодня в горе,
Христос, я плачу о моем отце,
который был — чудовищно сказать! —
жрецом в кумирне гнусного Сераписа.
Сесар Вальехо
(1892–1938)
Из книги «Трильсе»
XXVIII
Ни мамы за столом возле меня,
ни «ты поел бы», ни воды в стакане,
ни слов отца, когда он возникал
у алтаря с початками, кляня
застежки за размер и опозданье.
И как мне есть, как руку мне к той самой
тарелке протянуть издалека,
когда ни камня от родного дома,
когда ни капли не предложит мама,
когда мутит от каждого куска!
Я был сегодня за столом у друга
с его отцом, что с улицы пришел,
и тетками за вдовьим разговором
и пришепетываньем альвеол
над звонким — серым
в крапинах — фарфором,
с приборами на собственных местах,
мурлыкавшими счастливо на зависть.
И прямо в нёбо мне
ножи вонзались.
Еда за их домашними столами
с чужой любовью и куском не впрок;
хлеб станет прахом, если он не МАМИН,
конфеты — желчью, спазмами — глотук
и маслом для соборованья — кофе.
Когда под каждой крышей ты чужой
и не покормит мама из могилы —
на кухне ни просвета
и у любви ни крохи за душой.
* * *
Забойщики покинули забой,
расправив кости завтрашних развалин,
подперли жизни грохотом смертей
и, до отметки выработав мозг,
закупорили голосами
каверну заглубляющейся штольни.
Ты посмотри на этот едкий прах!
Послушай окись этого величья!
Все эти клинья ртов, и наковальни ртов,
и механизмы ртов! (Само великолепье!)
Порядок их могил,
хор перебранок, пластика подначек,
их толпы у подножья горючих катастроф, —
ценители желтушных суховеев,
печальники печалей,
подмастерья иссякших руд
и ссохшихся, бескровных минералов.
С рабочими буграми черепов,
обутые в ботинки из вискачи,
обутые в дороги без исхода,
с зияющими ранами глазниц, —
создатели глубин, они-то знают,
смотря на небо вперемежку с клетью,
что значит опускаться, глядя вверх,
что значит подниматься, глядя вниз.
Хвала извечным играм их природы,
бессонным мускулам, мужицким слюням!
Кинжал и рог — каленым их ресницам!
Да брызжут их соленые наречья
мхом, жабой и травой!
Железный плюш — их свадебным постелям!
Хвала их женам, женщинам до пят!
Да будут счастливы все их родные!
Какая это невидаль, когда,
расправив кости завтрашних развалин
и до отметки выработав мозг,
забойщики вскрывают голосами
каверну заглубляющейся штольни!
Да славится их желтая природа,
их чудо-фонари,
их кубы, ромбы, пластика увечных,
шесть нервных окончаний их глазищ,
их сыновья, играющие в церкви,
и тихие, как дети, их отцы!
Да здравствуют создатели глубин!..
(Само великолепье!)
Кшиштоф Камиль Бачинский
(1921–1944)
Злая колыбельная
От волос твоих палыми листьями веет.
Бьют куранты, гнусавя зловеще.
Свечи лета погашены, высь индевеет,
и тоска моя
псом от тебя не отходит под вечер.
Если сможешь — усни. Над умершей ракитой
кружит эхо в ночи неприкаянным стоном.
И плывем: ни огня впереди, ни колхиды, —
только боль начеку, затаившись кордоном.
Вместо детских драконов — упырь над могилой,
а плывущее небо — надгробием черным.
Только вопли колдуньи, надетой на вилы,
только вопли кота, что на месяце вздернут.
Если сможешь — усни. В темном крике дубравы
сумасшедший поэт удавился с закатом,
и под флейты ветров тело куклы дырявой
ливень долго таскал по панелям щербатым.
Спи,
все стихло.
Ни звука во мраке наволглом.
И незрячий, как я, ветер пал на колени.
Кем даровано, милая, нашим тревогам
это успокоенье?
10/11 сентября, ночь, 1940
Легенда
Фрегаты под пурпурными мотыльками
и в дымке имбирной и тминной
скользят по искрящейся амальгаме,
где лирами реют дельфины.
Кто, щуря глаза кошачьи,
чеканит возле бизани
свой профиль ловца удачи
в певучей бронзе сказаний?
А всё далеко-далече
звенят за чертой морскою
крохи-архипелаги,
что можно достать рукою
Атоллы там — как улыбки,
и в тигровом разнотравье
цвета казуаров зыбки
и плавны шаги жирафьи.
Там конь летит красногривый
над пляжем, что пуст и розов,
а дупла глядят пугливо
туземцами на матросов.
Кто край тот порой бессонной
мечтою возвел нездешней,
припав к тростинке муссона
и щеки кругля черешней?
И вот полыхает тропик,
как устье червонной печи.
Крохи-архипелаги
Всё далеко-далече.
Созвездья рвались в салюте
над гулкой далью слепою,
и луны сбегали ртутью
в кипящий тигель прибоя.
И были рыбы крылаты,
а песни их — что кристаллы,
и плыли в небе фрегаты,
а на земле светало.
Легенда из детской грёзы,
что дрема наколдовала.
Лишь полночью те матросы
идут на лов небывалый.
Вперяйся же в горький зенит
сквозь годы
с ободранною корою:
там стынут звездами мореходы,
схороненные герои.
Там, дремля в шезлонгах пляжей,
одни девчушки из меди
мурлычут песни тех экипажей,
поросших тишью столетий.
21 февраля 1941
Комментарии и справки о переведенных авторах
Антонио Мачадо (1875–1939) родился и провел детство в Севилье, в профессорской семье (его отец был собирателем и публикатором испанского фольклора). Он и сам потом несколько десятилетий преподавал в разных провинциях страны, образ учителя проходит через его позднюю поэзию и философскую прозу. После поражения Республики покинул Испанию и через несколько недель скончался на юге Франции.
Мачадо был первым поэтом, которого я стал переводить с испанского. Включены избранные переводы стихов из его основных книг — «Одиночества. Галереи. Другие стихотворения» (1907), «Поля Кастилии» (1912) и «Новые песни» (1924).
Константинос Кавафис (1863–1933) — греческий поэт. Родился и преобладающую часть жизни провел в Александрии — когда-то крупнейшем городе эллинистического Востока, к XVIII в. полностью захиревшем, а в 1882 г. оккупированном англичанами (до 1922 г. Египет оставался под протекторатом Великобритании). Служил британским чиновником, стихи начал писать поздно, они издавались крохотными тиражами и были известны лишь узкому кругу друзей. Слава пришла к поэту из Великобритании, где переводы его стихов в 1919 г. напечатал Э. М. Форстер, а затем Т. С. Элиот. Через это посредничество Кавафис пришел к У. Х. Одену, Ч. Милошу, Иосифу Бродскому и многим другим, узнавшим его по большей части в английских переводах. Соединение камерной формы и домашней интонации с историческим материалом, чаще всего редким и обычно относившимся к упадку античной цивилизации на восточных окраинах, сделали лирику Кавафиса чрезвычайно привлекательной для поэтов Европы после Первой, а потом Второй мировой войн.
Фрагменты стихов Кавафиса я переводил в первой половине 1990-х, готовя посвященный ему выпуск рубрики «Портрет в зеркалах» в журнале «Иностранная литература» (1995, № 12) и переводя цитаты в посвященных греческому поэту эссе У. Одена, Ч. Милоша, М. Юрсенар; пользовался я при этом переложениями Кавафиса на английский, французский, польский языки. Впоследствии вниманием и советами мне помогла поэт, филолог, переводчик с новогреческого Ирина Ковалева (1961–2007).
Сесар Вальехо (1892–1938) — перуанский поэт-новатор. Вырос в бедной семье индейско-галисийского происхождения. Работал в вольфрамовых шахтах, о которых писал потом в стихах, в романе «Вольфрам» (1931). Побывал в тюрьме по ложному обвинению — эти мотивы тоже вошли в его лирику. В 1923 г. переехал в Париж, был близок к сюрреалистам. В 1928 г. вступил в коммунистическую партию Перу. В годы Гражданской войны в Испании сотрудничал с республиканцами. Жил бедно, тяжело болел, скончался от неустановленных причин.
Кшиштоф Камиль Бачинский (1921–1944) — поэт, сын известного литературного критика. С гимназических лет входил в молодежную социалистическую организацию. С началом Второй мировой войны вступил в ряды Армии Крайовой, учился в подпольном университете, публиковался в подпольной печати, в поэзии был близок к «катастрофизму» (Ю. Чехович, Ч. Милош). Погиб во время Варшавского восстания. Преобладающая часть наследия обнародована после войны, поэт стал легендой польской культуры.
Бачинский был первым переведенным мной польским поэтом — собственно, для его переводов я и начал учить польский язык.